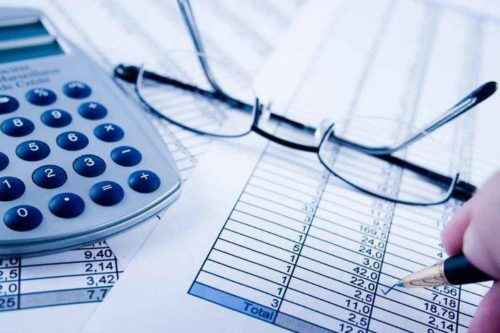В чем главный недостаток наследства 60 70 х годов
LiveInternet LiveInternet
Свидетель странностей в русской истории.
Есть авторитетный свидетель странного состояния "брожения" русского общества в конце 19-го века. Когда представители молодого поколения массово отказывались от веры/ идеалов своих родителей - и шли своей дорогой. И "предки" не могли найти с потомками общего языка.
Вопрос от какой веры они-"новые" отказывались и какой "интеллектуальной дорогой" они шли -. ИМХО - от "римской", от "многобожия" - к "Христианству славянофилов", своеобразному "Новоделу", которое мы сегодня считаем "древним православием".
Факт, что дети, взращенные «людьми шестидесятых годов», отказываются от наследства своих отцов, от солидарности с ними и идут искать каких-то новых путей жизни, другой «правды», нежели та, к которой их приучали так долго и так, по-видимому, успешно, есть факт одинаково для всех поразительный, вносящий много боли в нашу внутреннюю жизнь и, без сомнения, одною силою своею, своим значением имеющий определить характер по крайней мере ближайшего будущего.
Между вопросами, занимающими теперь общество, многие более неотложны, более нетерпеливо ждут и нуждаются в разрешении но нет между ними ни одного столь общего и столь нуждающегося в целостном освещении его причин и смысла.
Прежде всего о внутренней боли, которая чувствуется в этом разладе между отцами и детьми. Нужно вспомнить то одушевление, ту полную веру людей шестидесятых и семидесятых годов в себя, в свои принципы, в свое близкое и вековечное торжество, чтобы понять всю горечь их разочарования при виде того, как, не говоря уже о дальнейших поколениях, их же собственные дети совершенно отвращаются от них — и с ними от самих людей, седины и труд которых они были бы готовы почтить, если бы только не эти принципы. И далее, чтобы понять жгучесть этой боли и чувство ужасного стыда, в ней содержащегося, нужно вспомнить, как проводили люди шестидесятых годов своих отцов — эту светлую плеяду людей сороковых и пятидесятых годов, первых славянофилов и столь же благородных и идеальных первых западников.
«Групповой» возраст этого поколения, отказывающегося от наследства отцов своих и от солидарности с ними, должен быть от 20—30 лет и несколько более. Молодежь, принадлежащая к нему, должна была родиться между 1858—1868 гг. кончить гимназию между 1878 — 1886 гг. а университет — между 1880 и последующими годами. Время, в которое эта молодежь слагалась умственно и вырабатывала себе жизненную программу, совпало как раз с наиболее печальным временем нашей общественной жизни. Тут были и 1 марта 1881 года, и все его дальнейшие острые последствия. Общество заметалось, спуталось оно и прежде было слабо сознанием, а тут мысль его и совсем очутилась под спудом. Действительно, 70-е годы гимназии и 80-е университета — все впечатления этих лет и впечатление от 1 марта. Припомним же, каковы были эти впечатления, что нас в то время поразило, когда мы, стоя на пороге между гимназией и университетом, переживали эту страшную катастрофу. Нас поразила эта сухость сердца, этот взгляд на человека и отношение к нему.
О том, что данная тема не была "случайной" в голове Розанова - говорит и другая его статья, написанная в том же 1891 году, вызвавшая многочисленные философские и публичные полемики.
Что интересного для нас в этих статьях? Здесь идет речь не об экономических проблемах, обнищании народа, развитии капитализма (о чем мы учили в школах-институтах). А о странном состоянии духовного опустошения и мировоззренческого выбора в русском противостоянии "Запад-Восток", о котором мы, кажется, не знаем ничего.
В.В. Розанов. В чем главный недостаток «наследства 60—70-х годов»?
Мы все приносим с собою, рождаясь, различное мир открывается нам в меру того, что мы с собой приносим в этот мир. Поэтому, когда в данное время все идеи суживаются, горизонт становится тесен и люди как будто погружаются в какой-то глубокий колодезь, я думаю, что это только на время и со следующим поколением все станет видно иначе, чем теперь. Во всем дурном или ограниченном виноваты всегда люди, а не природа, которая и безгранична, и всегда останется хороша.
В поколении, которое сетует теперь, что оно оставляется, была эта же главная ошибка. Оно было хлопотливо, зорко, ежеминутно деятельно. Но в том, к чему оно прилагало свою деятельность, оно ничего не поняло. И вместо того, чтобы своим неустанным трудом залечить наконец все раны, покрыть тысячелетние страдания, оно разбередило эти раны, увеличило эти страдания. Послышался наконец крик, почувствовалась ненависть — и люди, которые думали, что они станут для человечества как боги, стали только грудой черепков, с презрением отталкиваемых. В жизни, в природе человека, в окружающем его мироздании это поколение поняло только одни подробности и вовсе упустило то главное, что их связует, формирует в разбегающиеся группы и оживляет собой. Неполнота знания при его верности отсутствие в этом знании самых глубоких и верных частей — это было самое важное, что сходящее с исторической сцены поколение не заметило в себе. И уже из этого, как вторичное, вытекала грубость всех чувств и отношений, в которой так часто и справедливо его упрекают. Все искажающая, все живое мучающая деятельность его была естественным завершением этого поверхностного внимания ко всему живому.
В человеке, со стороны должного, они поняли только его потребности в жизни увидели только игру слепых отношений, которые не могут не улучшиться, если к их направлению будет приложено сознание в целом мире заметили только протяжения, которые можно измерить, исчислить и, сообразив подробности, — понять остальное в нем как их простую сумму. Общих, разбегающихся и пересекающихся линий, которые бы открыли им главный смысл этого мироздания, они не заметили, все только анализируя его напротив, себя самих и то, из чего слагается их жизнь, они не поняли и не узнали до конца, все только синтетически слагая и перелагая жизнь человеческую по грубым потребностям человека. Эта неумелость отнестись мыслью к предмету и была главным источником неполноты их знания. И в самом деле, категория мышления, правильно развивающихся понятий есть едва ли единственная, по которой создана природа. В какие логические формы может быть уловлено чувство радости, которое мы порой испытываем?
И, однако, эти акты нашей душевной жизни суть такая же действительность, как и то, что мы видим и осязаем они суть часть природы, которую мы хотели бы постигнуть только своим умом. И в самой природе этой, которую мы надеемся охватить только научными формулами (то есть подвести всю под категорию мысли), — разве мы можем утверждать, что в ней нет ничего подобного этим актам, если именно ее продолжительное созерцание и смущает, и тревожит, и неизъяснимо волнует нас? Эти чувства, пробуждающиеся в нас в ответ на впечатления природы, чему в ней отвечают, когда мыслимое в ней только мыслится, опасное — угрожает или, наконец, благотворное — приносит пользу? Не ясно ли, что если всякому ощущению есть соответственное ощущаемое, как следствию есть сообразная причина, то и те особенные, не укладывающиеся ни в какую форму мысли и волнения, которые всегда и всюду испытывали люди при созерцании мироздания и которые они выразили в своей поэзии, в своих религиях, имеют также в самой природе нечто отвечающее себе, хотя бы это отвечающее было так мало уловимо для определения или даже просто выразимо в ясном слове, как, например, то, что выражено в мелодии, мало может быть передано в рассказе или изложено в рассуждении.
Мы здесь коснулись одного соответствия, а между тем природа вся состоит из них, и ничто другое, как эти соответствия, не проливает такого света на ее цельность. Упуская их из виду, занимаясь лишь изучением причин и их действий, целая школа мыслителей и за ними наше теперь поколение лишили себя одного из самых могущественных средств проникновения в природу и даже простого знания множества ее подробностей.
Человек как часть природы не составляет в этом отношении исключения но вместо бедных и однообразных соответствий которые связывают каждый физический предмет с окружающей средой, соответствия человеческой природы со всем миром и многочисленны, и разнородны. Как организм, как ряд сгруппированных веществ, он соотносится со всеми физическими стихиями природы. Но сверх этого грубого соотношения мы находим в нем другое, неизмеримо более глубокое: в его душу как бы вложены завитки всего мироздания, и, повинуясь их естественному расположению, он влечется так своим умом и своим чувством ко всему же мирозданию — воссоздает его в поэзии, понимает чрез науки и философию, стремится разгадать его сокровенную сущность в своих религиях. Мир духовного творчества, вырастающий из человека, есть только последствие этого отношения его к природе.
Понять это особенное существо, и притом будучи им самим, так плоско и бедно, как понят был человек людьми нашего старшего поколения, — это есть одно из самых удивительных явлений истории. Как будто люди эти никогда не задумывались ни над мыслью своею, ни над движениями своего сердца, ни, наконец, над своим рождением и ожидавшею их смертью. Как к песку пустыни, который лепится с глиной в кирпичи и кладется то в основание, то в вершину здания, они относились к живым людям. И себя не жалели они при этой постройке, не лепились, надрывались и падали, как муравьи не жалели также и других людей, вовсе не знавших, что у них делается. Отсюда — вся боль, которую вызывала эта деятельность. Повторяем, не грубость чувства, но ошибка узкого ума есть главное, что причинило все пережитые нами недавно несчастья. Напрасно окружающие люди говорили, что они вовсе не тем живут, что приписывают им «строители», напрасно о том же говорила им вся история — они слышали все это, но ничего в этом не поняли.
Простая ошибка в умозаключении была причиной, что мир поэзии, религии и нравственности остался непонятным и навсегда закрытым для поколения, которое должно бы сетовать на себя только, а между тем сетует на других.
Этот рассказ, помню, чрезвычайно поразил меня (в каком-то переводном французско-русском сборнике 20-х годов), и с тех пор всякий раз, как мне приходится мысленно оценивать различные исторические эпохи или присматриваться к своему времени, я всегда и все оцениваю в свете этого рассказа. Мы все приносим с собою, рождаясь, различное мир открывается нам в меру того, что мы с собой приносим в этот мир. Поэтому, когда в данное время все идеи суживаются, горизонт становится тесен и люди как будто погружаются в какой-то глубокий колодезь, я думаю, что это только на время и со следующим поколением все станет видно иначе, чем теперь. Во всем дурном или ограниченном виновны всегда люди, а не природа, которая и безгранична, и всегда остается хороша.
Никак нельзя сказать, чтобы путешественник, первым вышедший из храма, видел в нем что-нибудь не так или не то, что там было. Его глаз не делал никакой ошибки, и так же все его соображения, которые следовали за осмотром той или другой части, были правильны, неторопливы, соответствовали действительности. Но только не всей они действительности соответствовали: была неполнота в его наблюдениях, и только отчасти зависело от него, что он поторопился выйти. Главная причина заключалась в том, что он как-то вовсе не обратил внимания на общую скомпановку частей и, рассмотрев порознь каждую из этих частей, был уверен, что видел уже и целое, конечно из них состоявшее. От него ускользнуло самое главное: эта общая бегучесть всех линий здания, пересекавшихся так, что у всякого, смотрящего на них, невольно пробуждались какие-то особенные чувства, не имевшие ничего общего с линиями, как геометрическими протяжениями. И в храме, им так подробно, детально изученном, он ничего не понял. Он не понял того замысла, который был некогда в него вложен, всеми ощущался непреодолимо и заставлял эти необозримые толпы народа, оставляя самые нужные дела свои, приходить под его своды и, на минуту ощутив в себе могучую мысль, возвращаться с новыми и освеженными силами к своему труду, заботам и страданиям.
В поколении, которое сетует теперь, что оно оставляется, была эта же главная ошибка. Оно было хлопотливо, зорко, ежеминутно деятельно. Но в том, к чему оно прилагало свою деятельность, оно ничего не поняло. И вместо того чтобы своим неустанным трудом залечить наконец все раны, покрыть тысячелетние страдания - оно разбередило эти раны, увеличило эти страдания. Послышался, наконец, крик, почувствовалась ненависть - и люди, которые думали, что они станут для человечества как боги, стали только грудой черепков, с презрением отталкиваемых. В жизни, в природе человека, в окружающем его мироздании это поколение поняло только одни подробности и вовсе упустило то главное, что их связует, формирует в разбегающиеся группы и оживляет собой. Неполнота знания, при его верности отсутствие в этом знании самых глубоких и значительных частей - это было самое важное, чего сходящее с исторической сцены поколение не заметило в себе. И уже из этого, как вторичное, вытекла грубость всех чувств и отношений, в которой так часто и справедливо его упрекают. Все искажающая, все живое мучащая деятельность его была естественным завершением этого поверхностного внимания ко всему живому.
В человеке, со стороны должного, они поняли только его потребности в жизни увидели только игру слепых отношений, которые не могут не улучшиться, если к их направлению будет приложено сознание в целом мире заметили только протяжения, которые можно измерить, исчислить и, сообразив подробности, - понять остальное в нем, как их простую сумму. Во всем, к чему они обращались, они надеялись и хотели найти только соответствия другим сторонам своей природы. Те сухие, бледные формы человеческого существования, которые впервые были замечены и описаны Аристотелем, потом дополнены Бэконом, - эти формы, в самом существе человеческом задевающие лишь часть, - они думали, охватывают и. части, и целое всего мироздания. Общих, разбегающихся и пересекающихся линий, которые бы открыли им главный смысл этого мироздания, они не заметили, все только анализируя его напротив, себя самих и то, из чего слагается их жизнь, они не поняли и не узнали до конца, все только синтетически слагая и перелагая жизнь человеческую по грубым потребностям человека. Эта неумелость отнестись мыслью к предмету и была главным источником неполноты их знания. И в самом деле, категория мышления, правильно развивающихся понятий, есть едва ли единственная, по которой создана природа. В какие логические формы может быть уловлено чувство радости, которое мы порою испытываем?
Когда были открыты физические элементы, то, изучая их сродство, ученые думали вначале, что они влекутся друг к другу, потому что они одинаковы и их семейства схожи. Однако при детальном изучении каждого элемента порознь, они с удивлением заметили, что свойства влекущихся взаимно элементов скорее характеризуются отношением противоположности. Между тем в этом именно и лежит источник самого сродства. Нельзя представить себе, что природа составилась из элементов, как самостоятельных, в себе самих замкнутых тел, которые от начала лежали друг возле друга, потом стали взаимодействовать и через это образовали все тела. Элементы суть продукты насильственного расторжения тел, и эти последние вовсе не позднее их: они - их первее в том смысле, что, ранее, чем элементы появились изолированно, были уже тела, в которые они входили. И оттого с такою силою, иногда взрывом, элементы соединяются. Взрыв есть показатель того чрезвычайного усилия, которое теперь повторяется и было употреблено раньше, чтобы разделить влекущиеся вновь друг к другу элементы. Из них есть многие, которые, несмотря на все усилия анализа, долгие десятилетия оставались скрытыми для человека, то есть они не отщеплялись от тел и, только благодаря чрезвычайному напряжению, при помощи особых и в высшей степени искусственных средств, наконец были удалены из своего всегдашнего гнездилища и предстали пред человеком изолированно. Таким образом, химическое сродство есть то же, что частное сродство, и вытекает из всегдашнего взаимодействия в целом (теле) его частей (элементов). Отсюда разнородность всего влекущегося. Уже в простейшем примере, который мы взяли для объяснения этого явления, - в обрывке геометрической линии, эта линия связуется, восстановляет около себя части не себе подобные, но от себя отличные: радиус, то есть совершенно прямую линию, и центр, то есть точку, находящуюся вне дуги окружности.
И, наконец, если бы кто-нибудь, продолжая сомневаться в сказанном, все-таки утверждал, что целое непременно составляется из своих частей, а не потом на них разлагается, тот мог бы быть поколеблен в своем мнении сосредоточением своего внимания на своем собственном теле: в той первоначальной, одиночной клеточке, из которой развился весь его организм, какая часть его тела была заложена? Не ясно ли, что эта клеточка не была ни костью, ни мускульным волокном, ни частию нервной ткани, ни вообще каким-нибудь элементом его тела, а именно им целым, которое потом разложилось на элементы? Хотя, повторяем, клетка была только одна и на всем протяжении однородна, она ни из чего не составилась, но прямо отделилась от родительского организма. Итак, в этом примере мы с очевидностью наблюдаем, что целое может быть первее своих элементов, хотя несомненно состоит из них подобным же образом, можно думать, от начала мироздания, при всяких высоких температурах, были только более и более разреженные пары воды, но вовсе не было отдельно друг возле друга лежавших элементов, которые, соединившись, образовали из себя воду.
Человек, как часть природы, не составляет в этом отношении исключения но, вместо бедных и однообразных соответствий, которые связывают каждый физический предмет с окружающею средой, соответствия человеческой природы со всем миром и многочисленны, и разнородны. Как организм, как ряд сгруппированных веществ, он соотносится со всеми физическими стихиями природы. Но, сверх этого грубого соотношения, мы находим в нем другое, неизмеримо более глубокое: в его душу как бы вложены завитки всего мироздания и, повинуясь их естественному расположению, он влечется так своим умом и своим чувством ко всему же мирозданию - воссоздает его в поэзии, понимает чрез науки и философию, стремится разгадать его сокровенную сущность в своих религиях. Нет ничего в природе, не исключая самых тонких и неуловимых ее изгибов, что, так или иначе, не находило бы доступа в человека: и это значит, что в нем самом уже есть предчувствие, предугадывание всего, что лежит в природе. По справедливости, отношение его к ней не только сходно, но и во всей строгости повторяет собою отношение к многолетнему ветхому дереву плода, который наконец вызрел на нем и упал на землю: в скрытой возможности, в законах и силах своего роста, этот плод заключает все, что есть и в дереве, - все элементы его, и все законы и силы, и подобную же жизнь. Мир духовного творчества, вырастающий из человека, есть только последствие этого отношения его к природе.
* Тургенев, который, даже и в последние годы, не всегда мог скрыть это чувство (см. его переписку) Достоевский - во всех своих произведениях Л. Толстой в отношении к сожалеемой им, но лишь в ее уродстве, фигуре Николая Левина наконец, Гончаров в лице Марка Волохова. Только само это поколение как прежде, так и теперь всегда восхищалось собой.
** Выражение г. Н. Михайловского, поддерживаемое и "Вестником Европы" (см. 1891 г. май, статья "Писатель 60-х годов").
И эта смена зеленого убора снова совершается. Напрасны жалобы и сетования опадающих листьев: им не повернуть солнца на зиму. На себе самих, на своей судьбе, хотя бы в последние минуты своего трепетания, они могли бы понять сколько-нибудь ту природу, в которой выросли и на которую никогда не хотели раскрыть глаз.
Мы снова обратимся к сравнению, которым начали эту статью. В храме, в который вошли два путешественника-друга, было для них обоих открыто одно и то же но увидели в нем они различное, и на этом увиденном и понятом они разошлись навеки. Кто из них был более прав? Тот, кто посмотрел полнее. Ведь и второй путешественник, так долго простоявший в задумчивости среди храма, видел в нем все, что видел и первый, - и высоту стен, и материал, из которого они выстроены, и его приблизительную стоимость но это было не все, что он увидел здесь. По причинам, за которые ему нужно было благодарить природу-мать, его глазу дана была восприимчивость к гармонии красок и линий, а его слуху - восприимчивость к сочетаниям звуков. Не только шум и не простые переливы зеленого и синего цветов различил он, стоя здесь, но понял выразительную музыку и исполненную смысла живопись и архитектонику частей. Что было делать ему, если его бедному другу не дано было различить всего этого: он не мог выйти вслед за ним. И между тем, когда они снова встретились на улице, ему было чрезвычайно трудно что-нибудь объяснить этому другу. Здесь сказалось простое несоответствие задатков, которые от начала были вложены в их души. Если б он указал ему на сводчатые линии колонн, замыкавшихся в купол, его друг ответил бы, что эти колонны действительно сводчаты и что наверху купол но что было дальше объяснять ему и как объяснять? Чувство, выраженное линиями здания или красками картины, прошедшее когда-то через душу мастера и вновь пробуждающееся потом во всяком, кто умеет смотреть на его создание, - вот чего невозможно передать другому.
Впервые опубликовано: Московские ведомости. 1891. 14 июля. № 192.
Василий Васильевич Розанов (1856 - 1919) - русский религиозный философ, литературный критик и публицист, один из самых противоречивых русских философов XX века.
В.В. Розанов. В чем главный недостаток «наследства 60—70-х годов»?
Мы все приносим с собою, рождаясь, различное мир открывается нам в меру того, что мы с собой приносим в этот мир. Поэтому, когда в данное время все идеи суживаются, горизонт становится тесен и люди как будто погружаются в какой-то глубокий колодезь, я думаю, что это только на время и со следующим поколением все станет видно иначе, чем теперь. Во всем дурном или ограниченном виноваты всегда люди, а не природа, которая и безгранична, и всегда останется хороша.
В поколении, которое сетует теперь, что оно оставляется, была эта же главная ошибка. Оно было хлопотливо, зорко, ежеминутно деятельно. Но в том, к чему оно прилагало свою деятельность, оно ничего не поняло. И вместо того, чтобы своим неустанным трудом залечить наконец все раны, покрыть тысячелетние страдания, оно разбередило эти раны, увеличило эти страдания. Послышался наконец крик, почувствовалась ненависть — и люди, которые думали, что они станут для человечества как боги, стали только грудой черепков, с презрением отталкиваемых. В жизни, в природе человека, в окружающем его мироздании это поколение поняло только одни подробности и вовсе упустило то главное, что их связует, формирует в разбегающиеся группы и оживляет собой. Неполнота знания при его верности отсутствие в этом знании самых глубоких и верных частей — это было самое важное, что сходящее с исторической сцены поколение не заметило в себе. И уже из этого, как вторичное, вытекала грубость всех чувств и отношений, в которой так часто и справедливо его упрекают. Все искажающая, все живое мучающая деятельность его была естественным завершением этого поверхностного внимания ко всему живому.
В человеке, со стороны должного, они поняли только его потребности в жизни увидели только игру слепых отношений, которые не могут не улучшиться, если к их направлению будет приложено сознание в целом мире заметили только протяжения, которые можно измерить, исчислить и, сообразив подробности, — понять остальное в нем как их простую сумму. Общих, разбегающихся и пересекающихся линий, которые бы открыли им главный смысл этого мироздания, они не заметили, все только анализируя его напротив, себя самих и то, из чего слагается их жизнь, они не поняли и не узнали до конца, все только синтетически слагая и перелагая жизнь человеческую по грубым потребностям человека. Эта неумелость отнестись мыслью к предмету и была главным источником неполноты их знания. И в самом деле, категория мышления, правильно развивающихся понятий есть едва ли единственная, по которой создана природа. В какие логические формы может быть уловлено чувство радости, которое мы порой испытываем?
И, однако, эти акты нашей душевной жизни суть такая же действительность, как и то, что мы видим и осязаем они суть часть природы, которую мы хотели бы постигнуть только своим умом. И в самой природе этой, которую мы надеемся охватить только научными формулами (то есть подвести всю под категорию мысли), — разве мы можем утверждать, что в ней нет ничего подобного этим актам, если именно ее продолжительное созерцание и смущает, и тревожит, и неизъяснимо волнует нас? Эти чувства, пробуждающиеся в нас в ответ на впечатления природы, чему в ней отвечают, когда мыслимое в ней только мыслится, опасное — угрожает или, наконец, благотворное — приносит пользу? Не ясно ли, что если всякому ощущению есть соответственное ощущаемое, как следствию есть сообразная причина, то и те особенные, не укладывающиеся ни в какую форму мысли и волнения, которые всегда и всюду испытывали люди при созерцании мироздания и которые они выразили в своей поэзии, в своих религиях, имеют также в самой природе нечто отвечающее себе, хотя бы это отвечающее было так мало уловимо для определения или даже просто выразимо в ясном слове, как, например, то, что выражено в мелодии, мало может быть передано в рассказе или изложено в рассуждении. Мы здесь коснулись одного соответствия, а между тем природа вся состоит из них, и ничто другое, как эти соответствия, не проливает такого света на ее цельность. Упуская их из виду, занимаясь лишь изучением причин и их действий, целая школа мыслителей и за ними наше теперь поколение лишили себя одного из самых могущественных средств проникновения в природу и даже простого знания множества ее подробностей.
Человек как часть природы не составляет в этом отношении исключения но вместо бедных и однообразных соответствий которые связывают каждый физический предмет с окружающей средой, соответствия человеческой природы со всем миром и многочисленны, и разнородны. Как организм, как ряд сгруппированных веществ, он соотносится со всеми физическими стихиями природы. Но сверх этого грубого соотношения мы находим в нем другое, неизмеримо более глубокое: в его душу как бы вложены завитки всего мироздания, и, повинуясь их естественному расположению, он влечется так своим умом и своим чувством ко всему же мирозданию — воссоздает его в поэзии, понимает чрез науки и философию, стремится разгадать его сокровенную сущность в своих религиях. Мир духовного творчества, вырастающий из человека, есть только последствие этого отношения его к природе.
Понять это особенное существо, и притом будучи им самим, так плоско и бедно, как понят был человек людьми нашего старшего поколения, — это есть одно из самых удивительных явлений истории. Как будто люди эти никогда не задумывались ни над мыслью своею, ни над движениями своего сердца, ни, наконец, над своим рождением и ожидавшею их смертью. Как к песку пустыни, который лепится с глиной в кирпичи и кладется то в основание, то в вершину здания, они относились к живым людям. И себя не жалели они при этой постройке, не лепились, надрывались и падали, как муравьи не жалели также и других людей, вовсе не знавших, что у них делается. Отсюда — вся боль, которую вызывала эта деятельность. Повторяем, не грубость чувства, но ошибка узкого ума есть главное, что причинило все пережитые нами недавно несчастья. Напрасно окружающие люди говорили, что они вовсе не тем живут, что приписывают им «строители», напрасно о том же говорила им вся история — они слышали все это, но ничего в этом не поняли. Им все казалось, что они лучше всех других узнали человеческую природу, хотя в действительности они только беднее всех ее поняли. Они взяли минимум человеческих потребностей, и по этому минимуму, с ним сообразуясь, стали возводить здание, которое для них самих было бы тесно и узко (если бы им пришлось в нем пожить подольше) и куда они хотели бы навеки заключить все человечество.
Простая ошибка в умозаключении была причиной, что мир поэзии, религии и нравственности остался непонятным и навсегда закрытым для поколения, которое должно бы сетовать на себя только, а между тем сетует на других.
«Московские ведомости». 1991. 7 и 15 июля.
Печатается в сокращении по сборнику: Розанов В.В.
Сочинения. М. 1990
Я никогда в жизни не видал такой визитной карточки.
— «Икс Игрек Дзет. Репортер газеты такой-то».
“Славянофильский” этап в развитии философско-религиозных взглядов В.В. Розанова (76215-1)
“ Славянофильский” этап в развитии философско-религиозных взглядов В.В. Розанова
Не опасаясь всеобщности определения, можно сказать, что развитие философских взглядов любого мыслителя есть структурированное единство содержания и формы. Определённый срез философского творчества представляет собой структуру, состоящую из качественной определённости и взаимосвязи его этапов. Следствием этих посылок для исследователя является задача периодизации изучаемого творчества, в частности включающая в себя установление относительных границ этапов его развития, экспликацию и анализ основных проблем и понятий, присущих каждому из них.
Данная статья имеет своей целью рассмотрение философско-религиозных взглядов известного русского писателя, публициста и философа Василия Васильевича Розанова, высказанных им на страницах его произведений в 90-е годы XIX века и во многом не утративших своей актуальности и в конце века XX-го.
С начала 90-х годов XIX века в творчестве В.В. Розанова “философия понимания” уступает место своеобразной “философии жизни” (1). И если начало философского творчества мыслителя, его “философию понимания” или “философский период”, допустимо рассматривать как восхождение от конкретного к абстрактному, то последующий творческий этап мог бы быть охарактеризован как восхождение от абстрактного к конкретному. Изменение философско-религиозных взглядов мыслителя прежде всего было связано с изменением в его жизненных обстоятельствах: в 1891 году происходит тайное венчание В.В. Розанова и В.Д. Бутягиной. Этот брак не только принёс писателю семейное счастье, но и как пишет сам Розанов, – открыл бесконечность тем,” …и всё запылало личным интересом.” (2. с.169.). Отвлечённые идеи и теории уже не кажутся философу важнее жизненной реальности. Под воздействием действительных привязанностей, через обременённость обязанностями семейного человека шло становление “философии жизни” писателя. Розанов в статье “О студенческих беспорядках” пишет: “…простой опыт жизни, расширение сферы наблюдений и самой наблюдательности, завязавшиеся живые связи с обществом и жизнью историческою через семью, детей, наконец, через труд-кладут каждого в свою ячейку и заставляют признать необходимость и целесообразность, а наконец, и священность, и поэзию этого громадного улья, где вот уже тысяча лет роится громадный народный рой.” (3. с.122).
Понятие “философия жизни” имеет в истории философии определённое значение-это иррационалистическое философское течение, к которому, в частности, относится творчество Ницше, Дильтея, Шпенглера и некоторых других известных мыслителей. В этом её значении к “философии жизни” могут быть отнесены философско-религиозные взгляды “зрелого” Розанова периода “философии пола”, но для второго этапа творчества мыслителя термин “философия жизни”, применим лишь в качестве антитезы “философии понимания”. Философия, предполагающая прежде всего внимание к реальной жизни, от которой писатель в дальнейшем уже не отступал, явилась как бы диалектическим отрицанием предшествующего “философского этапа” творчества. Отрицанию подвергся и присутствовавший в книге “О понимании”, основном произведении первого творческого этапа стиль изложения: на смену стилю философского трактата приходит художественная публицистика. Начавшаяся “философия жизни” облекается автором в новую форму, а форма изложения мыслей, в особенности у В.В. Розанова, сама несёт определённое философское содержание. После того как книга Розанова “О понимании” не нашла никакого отклика у философов и учёных и небольшой её тираж так и не был распродан. Розанов избегает системности и внешней последовательности в изложении мыслей, он как бы опасается и однозначных дефиниций. Переосмыслив свой метод, философ пытается охватить любой рассматриваемый вопрос кольцом противоречивых суждений, антиномичность и внешняя бессистемность становятся для мыслителя инструментами в поиске истины. Розанов-гегельянец и систематик отрицается Розановым-художником и интуитивистом.
Однако любое “незряшное” отрицание должно содержать в себе преемственность-и таковая во втором периоде творчества философа присутствует. Она являет себя, в частности, в охранительских настроениях и в симпатии к славянофильству, легко обнаруживающихся как на страницах работы “О понимании”, так и в произведениях, относящихся к этапу “философии жизни”. В работе “О понимании” Розанов писал о недостаточности, односторонности одного “понимания”, как интеллектуального акта для человека. Аналогичные мысли характерны и для славянофилов: так и в работе И.В. Киреевского “О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России “можно отметить замечание автора о неудовлетворительности западного просвещения, основанного исключительно на рассудочности и вызывающего у людей”. чувство недовольства и безотрадной пустоты…” (4. с.176). Мысль Розанова о необходимости для историка быть в то же время и художником близка по своему смыслу мысли А.С. Хомякова о том, что “Учёность может обмануть, остроумие склоняет к парадоксам: чувство художника есть внутреннее чутьё истины человеческой, которое ни обмануть, ни обмануться не может” (5 с.41.). Славянофильским был подход В.В. Розанова к оценке своеобразия российского самодержавия, славянофильской по своему содержанию была и критика философом юридического идеализма, присущего, по его мнению, западной государственности.
Учитывая, что в России в середине XIX века. “Увлечение Гегелем носило характер религиозного увлечения и от гегелевской философии ждали даже разрешения судеб православной церкви” (6.90.). и то, что славянофилы первоначально”… применяли к русской истории принципы гегелевской философии” (6. с.97.), можно сказать, что переход В.В. Розанова с позиций гегельянства на позиции славянофильства был вполне логичным и естественным. Сам Розанов относил себя к кругу людей”… оставшихся ещё верными заветам, смыслу и духу земли русской” (7. с.216), считал себя славянофилом, включая в славянофильское направление и славянофилов 40-50-х годов, и почвенников, и “поздних” славянофилов конца XIX века. Такая самоидентификация верна, если истинность её ограничить рамками второго периода творчества мыслителя, а именно 1890-1898 годами. Следует отметить, что для Розанова” … так называемая школа славянофилов – название очень узкое и едва ли точно выражающее смысл школы. ” (7 с.177.). Философ полагает, что “Правильнее было бы назвать её школой протеста психического склада русского народа против всего, что создано психическим складом романо-германских народов.” (7 с.177.), Психическому складу русского народа соответствует, считает философ”… начало гармонии, согласия частей (7 с.177.), тогда как психическому складу романо-германских народов чужда гармония, ему присущ антагонизм частей.
Розанов убеждён, что для славянофилов характерно видение действительности как целого. В статье “В чём главный недостаток “наследства 60–70-х годов?” Розанов разъясняет это своё убеждение, рассказывая о двух путешественниках, изучающих незнакомый им храм. Один из них, рассмотрев порознь все внутренние детали убранства храма, быстро его покинул, якобы поняв в нём всё. Другой же за деталями увидел целое-именно такое видение считает Розанов истинно понимающим. Не ослабляя, даже усиливая внимание ко “многому”, Розанов вслед за своими идейными учителями превращает горизонталь “единое-многое” в вертикаль. Целое для философа оказывается первичнее, реальнее составляющих его частей.
Понимание такого рода тоталитаризма, полагает философ, присуще далеко не всем. Так, отсутствовала интуиция целостности, по мнению Розанова, у поколения, активно действовавшего на исторической, идеологической сцене России в 60-70-е годы XIX века. Вследствие невосприимчивости к целому, позитивисты, материалисты, атеисты 60-70-х годов, всё только анализируя мироздание, упустили его главный смысл. Им не была свойственна интуиция целого именно как позитивистам, материалистам и атеистам. Розанов считает, что, останавливая своё внимание лишь на частях, герои 60-70-х годов отодвигали на задний план или вовсе забывали о взаимосвязи частей. Они метафизически разрывали на части единство “живой жизни”, произвольно противополагали эти обособленные ими части, а если и предпринимали попытку их синтеза, то делали это неумело, искусственно конструируя нелепые отношения. Чтобы раскрыть ошибочность радикализма шестидесятников и семидесятников, Розанов использует связанную с интуицией целого антитезу “естественно-искусственного”, выполнявшую роль критерия истинности и в его “философии понимания”. В понятия “искусственного”, “искусственности “Розанов вкладывает негативное содержание, искусственность рассматривается философом как насилие по отношению к естественному ходу событий. Искусственность идей и поступков корнем своим, по мнению Розанова, имеет невнимание к “живой жизни”, а последнее, в свою очередь, вырастает из невосприимчивости к целому как единству многого. В работе “Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского “Розанов отмечает, что великому русскому писателю не свойственно было конструировать некой новой искусственной действительности. Достоевский считает Розанов, стремился “Удержать её (действительность) и лишь кое в чём исправить”. (8. с. 66). Такого рода консерватизм безусловно был характерен и для самого Розанова, ощущавшего целое не как мёртвую абстракцию, а как живое единство конкретных подробностей.
Источники:
, , , ,
Следующие:
- Можно ли ездить на машине умершего человека до вступления в наследство
- Открытие наследства по завещанию документы
Комментариев пока нет!
Поделитесь своим мнением